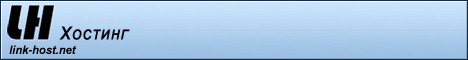Я сидел на берегу реки, а совсем рядом возвышался большой железный мост. Вода не текла, а неслась. Она была грязно-коричневого цвета, и по ней плыли разные разности: большие кусты, мусор, даже дохлая собака. Я подошел поближе к мосту. Наверху, у самого начала моста, было написано «р. Арысь». Это слово уже было мне откуда-то знакомо.
И я вспомнил наш вагон-изолятор. Сержант Галия говорила, что нас встретят, не доезжая Ташкента, на станции Арысь. Полина еще спросила: «Доедем ли мы все до этой Арыси?». Надо же! А я-то думал, что я уже на «том свете». Я сидел у самой воды и смотрел, как близко ко мне волна подкатывает маленькие красивые камушки. Я опустил ноги в мокрый песок, и вода облизала мои пятки. Хотелось пить. И тогда я увидел рядом ямку с чистой водой. Я подполз к ней и потянулся губами к воде… На меня смотрела… моя мама, которую я никогда не видел, но которую я сразу узнал.
– Поцелуй меня, сыночек мой… – сказала она. – Иди ко мне, я обниму тебя, радость моя…
Я отшатнулся и упал лицом в песок… Потом поднял голову и осмотрелся. Никого не было… Очень хотелось пить. Я снова наклонился над лужей воды и напился.
– Сынок! – услышал я уже из самой реки. – Иди ко мне. Где же ты так долго был, мой родной?
– А где т-т-ты была? – вдруг закричал я и снова посмотрел в ямку с водой, чтоб показать маме язык. Она смотрела на меня и тоже показывала мне язык. Я снова отшатнулся, и мир вокруг меня пошел кругом.
Я проснулся от того, что кто-то целовал меня в щеку и в лоб, обдавая мое лицо жарким учащенным дыханием… Я открыл глаза….
Только позже я смог восстановить то, что осталось за пределами моего беспамятства. Тогда я просто не отдавал себе в этом отчета, поскольку мое «я» еще не могло расшириться до границ понимания ни моего состояния, ни поведения, да и отношения к сложившейся ситуации. Конечно, я видел в ямке с водой свое собственное лицо, свою голову с кудрявыми локонами волос. А целовала меня страшная морда с открытым клыкастым ртом.
Помню хорошо. Я ее… крепко обматерил и прижал к себе остатки еды, завернутые в «Казахстанскую правду». Однако морда продолжала меня лизать и лаять… Но сил сопротивляться уже не было.
Все эти воспоминания теперь уже трансформировались в хорошие и нехорошие образы. Более того, происходившее со мной в те дни было уже сто раз пересказано другими участниками этих событий, много раз прокомментировано, и теперь память моя обогатилась еще и памятью других людей. Это позволило мне составить из маленьких фрагментов более полную картину, ставшую теперь ярче и осмысленнее. Ставшую вполне готовой для включения ее в сюжет будущей книги.
В тот же день, здесь же, на месте слияния реки Арысь и Сыр-Дарьи, я проснулся на коленях молодой женщины. Она сидела на земле, прижимая меня к груди, туго затянутой теплым платком. Ее руки ощупывали меня под моей грязной рубахой. Затем женщина взяла меня за волосы и повернула мою голову близко к своему лицу.
– Господи! Вши…
Я закрыл глаза, чтоб не видеть ее. Но женщина сильно встряхнула меня.
– Нет! Нет! Не умирай…
Она отстегнула булавку на узле платка и, сдернув его с себя, осталась в одной рубахе, совершенно мокрой на груди. Она снова повернула мою голову к себе и, сдавив грудь, брызнула мне в лицо белой струей.
– Помоги мне сыночек… Помоги… И я тебе помогу… Я не отдам тебя… Еще, еще немного помоги мне. Тебе это полезно… О,
Аллах! Они отняли у меня мою девочку. А я не отдам! Не отда-а-а-м!
И она закатилась сильнейшим приступом кашля, закрывая лицо лежащим рядом теплым платком…
Я видел перед собой ее худое смуглое лицо. Я смотрел на нее одним глазом. Другой мой глаз закрывала ее грудь, которую я терзал, ухватившись за нее двумя руками. Иногда женщина откидывала голову назад и тяжело дыша. И тогда я отпускал ее грудь, смуглую. с большим коричневым соском и таким же коричневым ободком вокруг него. Женщина брала в руку свою грудь и брызгала на мои глаза, на мои губы теплой белой жидкостью, которую я слизывал и глотал, ощущая нежное тепло в своем пересохшем пище-воде.
То, что я делал тогда, я никогда в жизни не делал, никогда в жизни не ощущал. У меня это отняли. Лишили меня по какому-то неизвестному праву.
Я во все глаза рассматривал лицо этой женщины. Таких лиц я еще никогда не видел. В башкирской деревне, где мы росли, мы иногда видели, как женщины кормили грудью своих детишек. Тогда мы присаживались рядом и не могли оторвать глаз от этого зрелища, пока нам не говорили: «Ну, хватит! Сглазите еще. Глазища-то повытаращили. Что вас мать – не кормила, что ли?»
К великой нашей беде это было правдой. Не кормила. Никогда. Первый раз мы это видели. А теперь вот я, такой большой, лежу на руках и…
– Слава Аллаху! – сказала женщина, державшая меня на руках. – Глаза открыл. Господи!.. Откуда ты такой взялся в степи? А я сначала думала, что ты девочка. Вон кудри-то какие… Заглянула, а ты мальчик… Не с поезда ли?.. Кутаяк! Кутаяк!.. Не мешай нам… Не маши хвостом... Не подымай пыль… Пошел вон, Кутаяк… Уходи прочь…
Говорила она по-русски так хорошо, так ласково, что я сразу успокоился и снова схватился обеими руками за ее грудь. Рот наполнился теплым сладким молоком, которого я никогда еще не пробовал. А женщина еще что-то говорила про себя, то по-русски, то по-другому, и по щекам ее текли слезы.
– Кушай, золотце! Кушай… Изболелись мои груди…
И она запричитала на непонятном языке.
Из ее разговора можно было понять, что ее молоко принадлежало ее ребеночку, девочке, которую у нее отняли и увезли в далекий аул к какой-то женщине, не имеющих своих детей. Причитания она сопровождала горьким плачем и словами, обращенными ко мне:
– Вот мне уже и легче стало. Слава Аллаху! Это Он послал тебя ко мне. Это я просила Его дать мне мальчика. Но он дал мне девочку, и муж-то мой как рассердился на меня, что не мальчик. Отнял ее у меня и отвез к своей старшей жене в Байеркум. А я вот нашла тебя. Это Кутаяк тебя нашел. Слышу, он лает как-то не так. Зову его. Но он не идет. Меня, значит, завет к себе… А ты кушай, кушай. Сейчас мы покажем тебя Зульпухару…
Услышанное тогда было для меня очень сложной для восприятия информацией. Я почти ничего не понимал из ее разговора со мной. Ясно было только одно – меня нашел этот огромный пес-волкодав по кличке Кутаяк. И еще я понял, что я не умер, как мои друзья Эдик и Полина.
Я – живой.
В тот период моего детства мне приходилось входить в контакт с людьми совершенно другого склада бытования, языка и культуры. Это были казахи, ведущие тогда еще полукочевой образ жизни. В те годы я вошел в новый для меня мир, будучи совершенно не подготовленным к бытованию в другой среде. Моя недавняя несвобода сменялась теперь другой несвободой. Ни территория, ни язык, ни культура этого народа не были мне знакомы за десять лет моей жизни. Родившись в Ленинграде, развиваясь дальше в башкирской деревне под Уфой, мы не имели представления о народах, живущих по соседству с Россией. Знать все это нам было просто еще рано.
Волею судьбы я погрузился в социальную среду, которая поглотила меня целиком, заставив некритически воспринимать незнакомые мне стереотипы мышления и поведения. Я вынужден был участвовать в жизни людей, с которыми не был связан ни родственными, ни официальными узами.
Итак, я оказался на территории Кызылкумского района Южно-Казахстанской области, недалеко от ст. Тимур и ст. Арысь. Аул находился далеко, в прибрежных тугаях в устье реки Арысь, впадающей здесь в безудержную и норовистую Сыр-Дарью. Здесь, в прибрежных зарослях, местные чабаны пасли скот высокопоставленных чиновников района и области, тучные отары которых достигали по сотне и более каракульских овец. Тогда я этого еще понимать не мог и потому только догадывался, почему мое появление в ауле было принято не так уж радостно и приветливо. Как бы мал я не был, а все-таки чужак. Неизвестно откуда взявшийся ребенок, тем более «орыс», был явно не к месту. Однако Тота закатила по этому поводу большой скандал своему Зульпухару, который на самом деле был ей не мужем, но родным братом жениха Тоты, Нартая, репрессированного и расстрелянного в Ленинграде еще до начала войны, когда они вместе учились: Нартай в университете, а Тота в балетной школе на улице Зодчего Росси.
Обо всем этом я узнавал из уст своей покровительницы, прекрасно владевшей не только русским языком, но и знанием русской, а может, и всей европейской культуры. Только сейчас я осознаю то, что моя историческая память превратилась в некий источник идентификации с детством, в котором, вопреки законам антропологии, самого-то детства… не оказалось. Его у меня, как и у многих других, общество ампутировало, превратив нас в жертв неблагоприятных условий социализации.
В тот период я был просто маленьким взрослым, а может, и маленьким старичком с ограниченными физическими возможностями бытования. Однако процесс удовлетворения потребностей в моем организме, типичный для нормального детства, у меня был замещен активным процессом овладения смыслами окружающей действительности, не смотря на то, что овладения средствами мыслительной деятельности я официально еще нигде не проходил, т.к. нормальную школу еще не посещал. Вот почему этап моего психического развития, предшествующего взрослости, оставался вне контроля. Его просто некому было осуществлять. В этом, по-моему, главная сущность так называемого сиротства.
Но это еще не самое основное в сиротстве. Главное в нем – страх, который постоянно угрожает как биологическому, так и социальному существованию ребенка. В этой связи все нервное средоточие сироты направлено на источник страха. Здесь речь не идет о страхе за стыд, тем более, за бесчестье или за нравственность. Эти категории этики еще не коснулись маленького сердчишка ребенка. Речь идет о животном страхе, исходящим из глубин осознания своей собственной беззащитности и ничтожности. Только сейчас можно ясно представить себе, что в те годы переживали не только дети-сироты, но и взрослые-сироты. Страху были тогда подвержены чуть ли не все люди.
Я помню, как Тота, прятавшая меня в своей юрте, не пускала в нее ребятишек, пришедших на меня поглазеть. И у нее были на это основания. Однажды она сказала мне, что теперь всё обо мне узнала, и что я зря не называю себя. Оказывается, в этот дальний маленький аул заглянул прокурор, чья отара овец укрывалась в прибрежных зарослях с помощью местных чабанов. Его приезд был неожиданным и потому собрал всех в юрту хромого Зульпухара, мужа трех жен, в том числе и Тоты, за глаза называвшей его «Аксак-кулан» (хромой осел). Неожиданно приехавший прокурор сообщил, что на станции Тимур произошло страшное дело. Ночью из вагона-изолятора поезда № 500 вынесли два детских трупа для погребения. Пришедшие работники обнаружили только один труп девочки, в одеяле которой лежала полевая сумка с документами на двоих детей. Второго трупа на месте не оказалось. Прокурор сказал, что машинисты видели девочку в белом платье, идущую по шпалам в сторону моста через реку Арысь. Они давали сигнал за сигналом, и девочка скатилась под откос. Возможно, сказал он, это была не девочка, а тот пропавший мальчик. И он назвал имя и фамилию мальчика и попросил Тоту познакомиться с его документами, чтобы понаблюдать за ссыльными чеченцами, живущими на другом берегу Сар-Дарьи.
Когда Тота говорила мне об этом, она вся дрожала и прижимала меня к груди, туго перевязанной шерстяным платком. Она плакала и причитала:
– Бедная моя девочка… Как ты там без меня? Кто тебя там кормит и греет? Кого теперь я буду кормить своим молоком? О, Зульпухар, Зульпухар, что же творишь со мной и с моим отцом! И нет на тебя никакой управы…
Стояла жаркая майская ночь. Тяжелое дыхание Кызылкумов уже не обжигало, но обволакивало уставших за день людей пеленой вялости и сонливости. Не могли угомониться только мириады цикад, заполнивших ночь своим многоголосым хором. В ту жаркую ночь Тота, собрав наспех какой-то узелок, быстро, почти бегом, уводила меня из аула. У самой реки мы остановились, и Тота, посадив меня под куст джингиля, велела мне сидеть и ждать ее.
Теперь я понимаю, что в те дни мое существование мало кого интересовало с точки зрения оказания мне хоть какой-то элементарной помощи. Для людей я просто был, как был этот огромный, на высоких ногах, пес Кутаяк. Я ничего собой не представляя вообще, поскольку не мог проявлять ни воли, ни желаний. Их просто у меня не было. Я до малейших подробностей помню все, о чем думал в те минуты, сидя глубокой ночью на берегу реки и слушая быстрое её течение.
Я думал о том, что я не умер. Однако я не мог ни осознавать самого себя, ни контролировать свои действия, ни чувствовать своего тела, биения жизни. Это было какое-то самозабвение, выходящее за пределы моих ощущений, восприятия, понимания происходящего. Мне очень хотелось подойти поближе к этой черной воде, которая несла свои волны не прямо, как обычно, а какими-то заворотами, превращающимися в огромные воронки. Я поднялся и осторожно подошел к краю крутого берега. До воды было не достать. И я просто стоял на краю и смотрел, как плещутся и водят свой хоровод волны. Я помню, как из одной воронки неожиданно высунулись две руки, а потом голова и туловище женщины с длинными волосами, облепившими ее груди. Она стала руками отдирать от себя свои волосы и бросать их в мою сторону. Что-то залепило мне лицо, и я от страха свалился в песок. Потом еще несколько раз на меня попадали брызги. Меня колотила дрожь. Чей-то голос из воды ласково сказал мне: «Не бойся, сынок… Это я, твоя мама… А я все жду и жду, когда вас привезут, и я смогу увидеть тебя, мой родной… Решила сама за тобой прийти… Ну, иди ко мне скорее, а то мне без тебя так плохо, так плохо…». И я посмотрел на свою маму. Быстро поднялся на ноги. Она обняла меня крепко, крепко. И мне стало тепло, я впал в забвение…
– Господи! Кутаяк… Золотой ты мой… Какой же ты молодец!.. Как же ты его нашел? Я же тебя сюда не звала. Давай-ка мы его отнесем, пока он спит. Иди, Кутаяк, вперед, только не лай. Успокойся. Нам нужна тишина.
Т
ак я попал в жилище, которое Тота устроила для своего отца, беглого политзаключенного из «Карлага». Это жилище в виде пещеры у самого подножья кручи, на берегу Сыр-Дарьи, Зульпухар придумал сам. Ему надо было каким-то образом приютить своего тестя, в прошлом – известного профессора Алма-Атинского педагогического института, репрессированного в рамках повального уничтожения казахской интеллигенции. Сам Зульпухар вернулся с фронта без стопы правой ноги после долгого лечения в госпитале подмосковного Ногинска, из которого многие казахи-панфиловцы вернулись домой калеками.
Отец Зульпухара, старейшина рода, многие годы вел нехитрое скотоводческое хозяйство расчетливо, умело, за что снискал уважение народа и зависть соседей, назвавших его в доносе «феодально-байским элементом». Его арест, по принципу домино, коснулся сразу двух его сыновей: младшего – ленинградского студента, и старшего – директора школы в Чимкенте. Зульпухара же отправили на фронт, несмотря на его болезнь, называемую в народе «падучей». В школу его не пустили из-за частых припадков. А вот на фронте он подбил два вражеских танка, получив за это орден «Красной звезды» и тяжелейшее ранение обеих ног.
Родной аул, некогда зажиточный, благодаря авторитету их рода «кульчугаш», встретил его душераздирающим плачем женщин, проклинавших войну и свою несчастную долю. Вырвавшись из их объятий, он, тяжело хромая, пошел в свою кибитку. Мать
Зульпухара ослепла. Прижав к губам его пропахшую табаком руку, она пыталась дотянуться до его лица, но рука бессильно падала и тряслась мелкой дрожью.
Все это мне рассказывала сначала Тота, а потом и другие женщины, убедившись в моем таланте быстро усваивать казахскую речь. По мере моего вхождения в мир взрослых людей – сильных, мудрых, обладающих разными характерами, я постоянно размышлял о них. Я сравнивал их с людьми, среди которых я рос в Ленинграде и в Уфе. И я поверил, что я не умер, что я еще живу. Мне пришло это в голову сразу же после того, как я заметил, что меня все чаще называют «улым» (сынок).
Я и сегодня помню многие черты характера тех людей, которые окружали меня в детстве. Я хорошо помню ту среду, в которой формировалось мое миропонимание. Да я и не забывал никогда и сейчас в этом убежден, что именно эти люди причастны к моему воскрешению из небытия, в котором я был обречен оказаться. И я обязан простить им все то больное, что было ими порой мне причинено не по злой воле, а по сложившимся обстоятельствам, связанным с моей причастностью к та-кому слою общества, к каким обычно относится сирота.
Я проснулся от разговора на русском языке. Говорили явно обо мне.
– Отвези, дочка, его немедленно в Арысь. Там в детдоме директором работает мой хороший друг – Фома Иосифович Рахштейн.
– Папа, но это же женский детдом.
– Какая разница, они там сами разберутся. Отведи сегодня же. Возьми у Зульпухара коня и отвези пацана. Его же ищет прокуратура.
– Тебя, папа, тоже ищет прокуратура…
– Тота, перестань… Отвези немедленно… Ему нельзя здесь быть…
– У меня Зульпухар отнял дочь. Отвез ее к своей старой кляче. А этот мальчик будет моим. Это я его нашла. Правда, Кутаяк? Это мы с тобой его нашли. Он будет наш.
И Тота, согнувшись, вошла в пещеру, в которой жил этот старик и вот теперь сюда привели меня. Я лежал на деревянном топчане, завернутый в большой тулуп, сильно воняющий чем-то кислым. Тота нагнулась надо мной и прошептала:
– Ты здесь немного поживешь с моим папой. Он очень интересный человек. Он доцент. Он в этих краях исследовал раскопки древнего городища Отрар. А я побегу в аул. Принесу вам еды.
И ушла… А я остался один в темноте пещеры и слышал, как надрывно кашлял старик. Как он произносил по несколько раз какие-то странные слова:
– Бисмилля… Иррахман…
С этого дня моя жизнь, если судить о ней с высоты прошедших лет, стала напоминать самый настоящий кинофильм о приключениях мальчика, ставшего не по возрасту мужчиной. Чтобы его пересказать, потребуются многие страницы журнала, и потому я лишь набросаю абрис тех давних событий.
Несколько дней Тота держала меня у своего отца, беглого политзаключенного, привезенного из «Карлага» с помощью того же прокурора, стадо овец которого пас Зульпухар. Однажды Тота повела меня купаться в то место, где река Арысь впадает в Сыр-Дарью. Она мыла меня кусочком мыла, который берегла для своей дочки. Сама Тота купалась в длинном малиновом пла-тье. Далеко в реку она не заходила, а меня держала за руки. Потом она выбежала на берег и стала делать какие-то странные прыжки, как будто хотела взлететь в небо. Одновременно она напевала какую-то мелодию. И вдруг исчезла совсем. Я очень испугался и закричал. Но Тота просто забежала в пещеру и появилась оттуда, неся в руках какой то чемодан. Она поставила его на песок. Открыла крышку. Достала какую-то железную ручку, вставила в чемодан и завела его. Оттуда вдруг заскрипело, зашипело, а Тота отошла подальше и встала, гордо подняв голову, подняв одну руку вверх, а другой задрав подол мокрого платья до живота. Из чемодана полилась красивая музыка. И Тота, крикнув мне «Адажио!», стала танцевать: делая то плавные движения, то неожиданно прыгая, выдвинув одну ногу вперед, а правую руку подняв над головой. Потом Тота сбросила с себя мокрое платье и, швырнув его в мою сторону, снова крикнула «Адажио!»
Прошел год моей жизни в ауле Зульпухара. Зимой, когда в аул редко кто приезжает, мы с отцом Тоты жили в доме ослепшей матери Зульпухара. Тота целыми днями была с нами, ухаживая за старыми и за малым, я имею в виду себя. Приходили и соседи, чтобы помочь чем-нибудь по хозяйству, но чаще всего, чтобы поговорить со стариком-доцентом, много знавшем об истории древнего Отрара. Сам того не замечая, я стал понимать казахскую речь, однако озвучивать новые слова при посторонних не решался. И тогда отец То-ты, которого звали Байтанай, стал посредником между мной и слепой старушкой. Она спрашивала у Байтаная про меня, а он выпытывал у меня нужное и переводил ей. В ответ она только вздыхала и приговаривала:
– О, байгус! О, бишара.
Зима прошла для меня незаметно. Все говорили, что я подрос и меня пора сделать настоящим мусульманским мужчиной. Поговаривали даже о проведении обряда «Сундет-той». Однако ранняя весна изменила все планы. Чабаны стали готовиться к откочевке на джайляу, начались сборы, какая-то суета. Про меня все забыли. Люди были заняты подготовкой на летние пастбища.
Однажды, рано утром, когда я еще спал, прибежала Тота и, схватив меня на руки, вынесла из кибитки. Я увидел недалеко два огромных костра, их пламя было так высоко, что искры доставали чуть ли не до неба. А между этими кострами шли люди и гнали перед собой овец, коров, лошадей. И странное дело: все шли молча, опустив головы, никто ничего не говорил. Только блеяли овцы, и мычали коровы.
Тота поставила меня на ноги и сказала:
– Не бойся… Идем вместе со всеми… Начинается весна, Наурыз. Сейчас мы с тобой пройдем через огонь, и это очистительное пламя сделает нас с тобой, этих людей, эту живность чистыми, освободит от всякой скверны и заразы.
– Как в санобработке? – спросил я ее. – Тота захохотала. Но кто-то цыкнул на нее, и мы побежали к огню, чтоб очиститься от наших прошлогодних грехов .
Вероятно, разные люди наделены различной способностью хранить в своей памяти представления о прошлом и эмоции, их сопровождавшие. В тот период жизни моя психика еще была не способна понимать окружающее и образовывать правильные представления. Тогда для меня все это было только ощущением собственного бессилия перед чередой самых неожиданных обстоятельств жизни. Кроме Тоты, рядом со мной не было хотя бы подобия родителей или пусть даже пятиюродных родственников, которые бы могли благотворно повлиять на построение моих образов, представлений, восприятия мира. В этом и есть трагедия ребенка-сироты.
А уже через месяц Тота верхом на лошади привезла меня на станцию Арысь. Мы ехали с ней по улочкам небольшого города с маленькими глиняными домиками. На самой его окраине она остановила лошадь, спрыгнула и осторожно сняла меня. Прижав меня к своей груди, она разревелась.